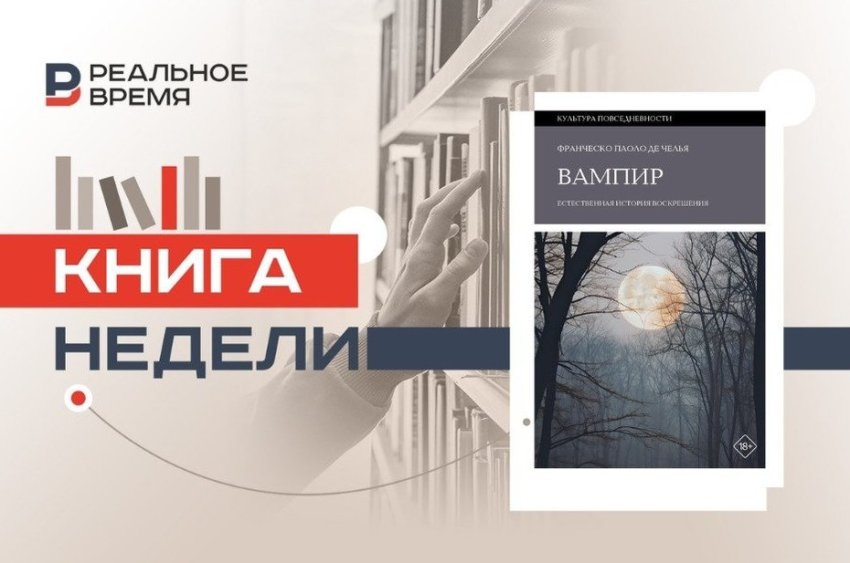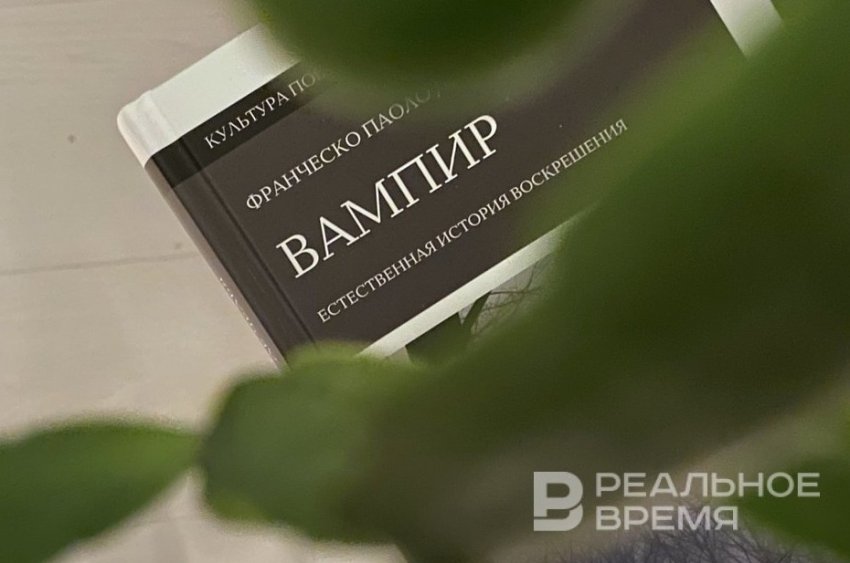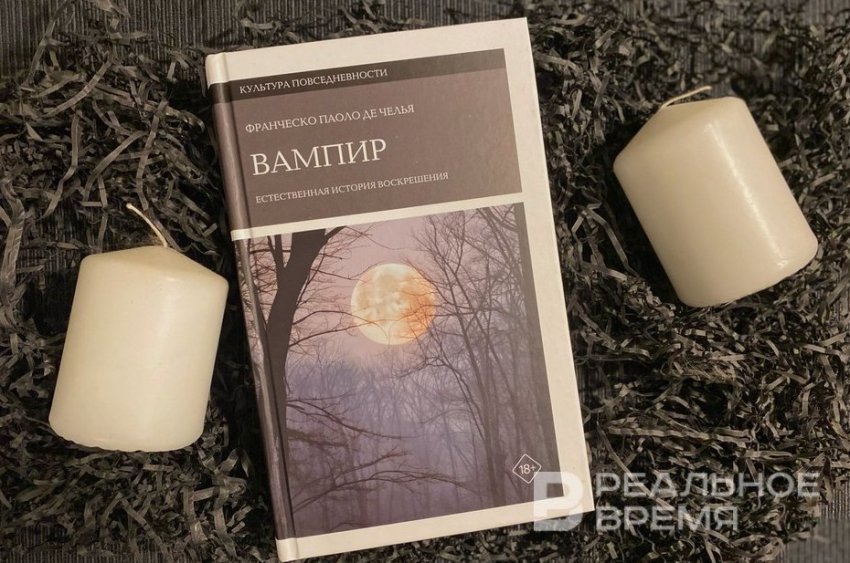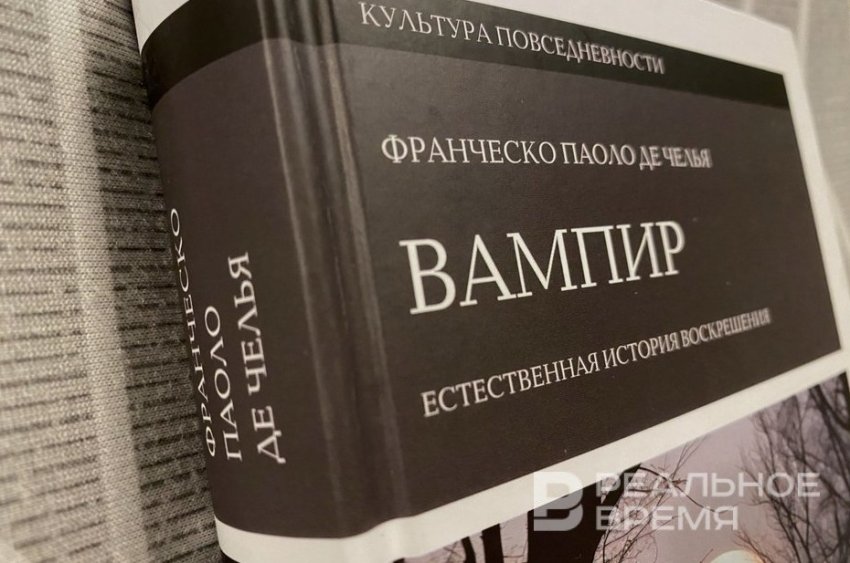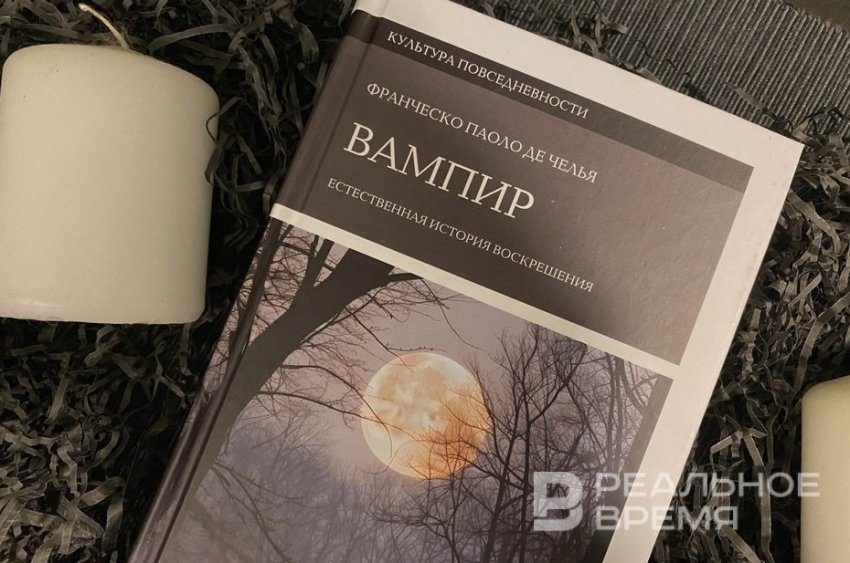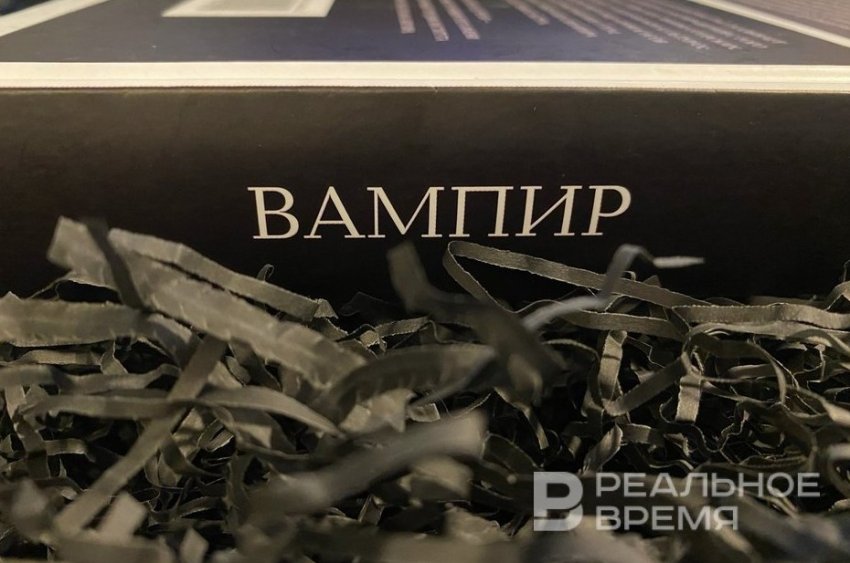Вампиры: как страх сделал их реальностью - «История»
История 2-11-2025, 10:35 Jerome 13 0
Книга этой недели — исследование итальянского ученого Франческо Паоло Де Челья «Вампир»
Загадочные смерти в Медведже
1731 год. Сербия, маленькая деревня Медведжа, на границе между Габсбургской и Османской империями. Де Челья назвал ее «темным пограничьем» — забытым, глухим и оторванным от мира. Именно отсюда в Белград отправили письмо лейтенанту, с просьбой вмешаться: в Медведже люди стали умирать слишком быстро. И главное — говорили, что причиной смерти стали неестественные события. По словам Де Челья, в письме утверждалось, что умершие вставали из своих могил и шли убивать живых.
«Но как такое возможно?», — спросите вы. Таким же вопросом задался лейтенант австрийской администрации в Белграде. Сначала он решил, что речь идет о вспышке болезни, очередной эпидемии. Поэтому лейтенант направил в Медведжу врача — специалиста по инфекциям по имени Глазер. Так в эту историю впервые вошла наука, которая дала старт официальному расследованию.
Глазер приехал в деревню и обнаружил, что ситуация почти не отличалась от описанной в письме. Врачу все виделось именно так, как писали местные жители. Среди немногих выживших ходили одни и те же рассказы, что люди ложились спать, а просыпались и видели дома мертвецов, которые ушли в мир иной несколькими неделями ранее. Де Челья в своей книге «Вампир» подчеркивает, что это были не вампиры литературной традиции, не герои вроде Дракулы, которого Брэму Стокеру еще предстояло написать через полтора столетия.
В XVIII веке, поясняет автор, страх еще был живым, а не театрализованным: эти существа были скорее похожи на зомби с огромными желтыми глазами, будто высасывающими на расстоянии жизненные силы у людей. И действительно, пишет Де Челья, через три или семь дней после того, как кто-то «видел» мертвого, этот человек умирал, его находили без признаков жизни в собственной постели.
Глазер был в замешательстве, но все-таки составил отчет, в котором отметил, что вокруг все кричали одно и то же слово — вампир. И это слово повторяется несколько раз в документе врача. Но Де Челья отмечает, что в 1731 году слова «вампир» еще не существовало ни в немецком, ни в каком-либо другом европейском языке. Оно не имело устоявшегося значения, а означало, скорее, монстра, который возвращается в мир живых, чтобы убить.
Милица и Стана
В итоге Глазер уже не мог ничего сделать, кроме как осмотреть тела тех, кого считали вампирами. Их эксгумировали, и именно тогда началось настоящее расследование. В центре его внимания оказались две женщины, которых местные считали вампирами, якобы они стали причиной посмертной эпидемии. Де Челья обращает внимание: это важная деталь. Мы знаем из мифа, что вампир — это мужчина, однако в реальности XVIII века, на уровне военных осмотров и медицинских отчетов, вампирами часто считали женщин. Причина, как пояснил автор, в том, что вампирами становились маргинализированные представители общества — одинокие, бедные, уязвимые. Этих женщин звали Милица и Стана.
Милица была пожилой женщиной, очень худой, вероятно, больной, у нее не было возможности добывать еду. Но когда ее тело извлекли, в протоколе Глазера отмечено, что она «оказалась располневшей». Сегодня мы бы сказали «вздувшейся», что естественно для тела, пролежавшего несколько недель под землей. Однако жители Медведжи, знавшие женщину исхудавшей при жизни, увидели в этом знак: будто бы она высосала из живых их кровь, субстанцию, жизнь. История второй женщины, Станы, еще более печальна.
Стане было около двадцати пяти лет. Де Челья напоминает, что во многих культурах женщины, умершие при родах, обречены возвращаться. Особенность этого случая заключалась в том, что Стана, судя по записям, была одинокой: ребенка похоронили не с матерью, не на освященной земле, а за оградой, возле дома матери. Это, по словам Де Чельи, наводит на мысль, что у ребенка не было отца.
Глазер написал краткий отчет, куда включил историю Станы и Милицы, и отправил его в Белград. Когда лейтенант получил этот документ, то буквально остолбенел. Ситуация оказалась куда сложнее, чем он предполагал. Военный чиновник обратился в Вену. Это был канун Рождества, и из Вены на своем величественном, но быстром как молния коне прибыл военный хирург. Его звали Иоганн Флюкингер, и он должен был провести вскрытия, чтобы определить, действительно ли тела не разлагаются по естественным причинам. Согласно знаниям того времени. Флюкингер приехал в Медведжу в рождественские дни и вскрыл тринадцать тел за один зимний день. Его заключение в целом подтвердило выводы Глазера: два тела оказались странно неразложившимися, остальные — вполне обычными. Эти два — снова Милица и Стана.
Де Челья отмечает еще одну закономерность: тела, признанные разложившимися (то есть не вампиризированными), принадлежали людям, связанным с военными. У них были сослуживцы, которые могли засвидетельствовать: да, тело тленно, оно выглядит так, как и положено мертвецу. А вот одинокие всегда попадали под подозрение. «Одиночество, — пишет Де Челья, — вот что заставляло возвращаться». По сути, вампирами становились не потому, что человек был графом Дракулой, а потому что единственный замок, по залам которого ему оставалось бродить, — это замок собственной души и полного отчаяния. У таких людей не было друзей и родственников, которые могли встать на защиту их памяти и имени. Зато на них удобно было «вешать» все зло, которое творилось в деревне.
«Год вампиров»
После вскрытий в Медведже Флюкингер составил официальный отчет. Этот документ был отправлен в Вену. Но именно там, где все еще царило рождественское беззаботное настроение, отчет стал настоящей сенсацией. В Вене взорвалась информационная бомба. Внезапно все начали думать, что мертвые восстают с востока и что целая армия мертвецов поднимается, чтобы сначала обрушиться на Вену, а потом и на весь мир. Де Челья напоминает, что город уже дважды переживал осаду турками, и теперь венцы вообразили себе новую угрозу.
Но история на этом не закончилась. Протокол Флюкингера в какой-то момент бесследно исчез. Однако через несколько месяцев, в марте 1732 года, документ неожиданно появился в голландском журнале, на французском языке, то есть был адресован широкой международной аудитории. И тогда в Европе началась паника. Все газеты хотели написать сенсационную статью о вампирах. Так 1732 год вошел в историю как «год вампиров». По словам Де Челья, это стало одним из первых примеров того, что сегодня назвали бы fake news. Тогда европейские журналы копировали материалы друг друга, часто дополняя новыми несуществующими фактами, лишь бы потешить читателей, которые под давлением собственного страха хотели удовлетворить информационный голод.
После этого всплеска интереса в Европе XVIII века начались реальные дискуссии о вампирах. Говорили, что у католиков уже есть нечто, похожее на вампиров. Речь шла о нетленных телах святых — тех, кто по вере не подвергся тлению после смерти. Некоторые критики прямо называли их «симулякрами вампиров». Католическая теология XVIII века старалась отрицать существование вампиров именно потому, что они были бы слишком похожи на святых. Даже папа римский того времени — Просперо Ламбертини, ставший Бенедиктом XIV, — включил в свой трактат о канонизации специальную главу, чтобы отличить святых от вампиров.
С другой стороны, отмечает Де Челья, существовала и противоположная позиция. Все эти события происходили в православной Европе, но двумя главными религиозными силами XVIII века были католики и протестанты. И протестанты, особенно лютеране, иногда говорили, что утверждения православных могут быть не таким уж неправильными, и дьявол действительно способен сохранять тела умерших. Они не верили в святых, но допускали, что некоторые тела сохраняются из-за действия негативных сил — дьявола, природных энергий, астральных влияний. Поэтому, как подчеркивает Де Челья, протестанты рассуждали так: нельзя думать, что все католические святые — вампиры, но, возможно, дьявол сохраняет эти нетленные тела в католических храмах лишь затем, чтобы люди продолжали верить в «неправильную» религию.
Козлы отпущения
Сегодня богословские споры XVIII века о вампирах кажутся нам почти смешными, потому что отражают религиозное мышление, очень далекое от нашего. Но чтобы понять, откуда взялся миф о вампирах, нужно вспомнить, кем они считались изначально. Вампиры были обычными людьми. Людьми, которые просто умирали. Но в неправильный момент. Неправильным моментом становилось время эпидемий, голода или войны.
В тех глухих местах, где не существовало ни политической власти, ни влияния Церкви, у людей оставалась только одна возможность вернуть себе ощущение контроля над происходящим. И потому им нужно было найти виновного, того, кто ответственен за зло, обрушившееся на город или деревню. Так в ход шли раскопки могил. Это происходило чаще всего зимой: жители шли на кладбища, выкапывали умерших и осматривали тела. И всегда находился какой-нибудь труп, который выглядел менее разложившимся, чем остальные. Полного разложения ведь не требовалось: достаточно было, чтобы тело выглядело «слишком целым». Тогда объявляли, что нашли виновного. После чего мертвецу отрубали голову, вбивали кол в сердце и сжигали.
Вообще, у огня, по словам исследователя, было особое значение. Костры были символически фундаментальны: они освещали Восточную Европу, у которой не было другой силы влиять на свою судьбу, кроме как сжигать вампиров. Точнее, вешать это клеймо на обычных людей, которые не могли рассказать свою историю. Они становились козлами отпущения — символической жертвой, на которую переносилось коллективное чувство страха и вины.
Франческо Паоло Де Челья отмечает, что истории о вампирах всегда складывались задним числом. После того как жителям города или деревне тело умершего казалось недостаточно похожим на разложившееся, люди начинали вспоминать: «Ах да, ведь этот человек проходил мимо церкви, и тогда крест упал!». Такие «деревенские рассказы» становились аргументами в попытке объяснить необъяснимое. В обществе, где люди стремятся проявить себя, вампиры — это те, кто не может рассказать свою историю. Это те, о ком говорят другие. Те, кого определяют и описывают извне. Те, чьи голоса заглушены, и потому считают их негативными персонажами.
Издательство: «Новое литературное обозрение»
Перевод с итальянского: Анастасия Строкина
Количество страниц: 584
Год: 2025
Возрастное ограничение: 18+
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».
Екатерина Петрова
Ваша реклама
Другие новости
Облако тэгов
Ваш Выбор Инноваций
«Татары Уфимского уезда» — идеологический ответ Башкортостану или сугубо научный справочник казанских...
Подробнее 30-дек-2020Документы по истории татар в 1917 году переведены с арабской графики на кириллицу и изданы скромным тиражом...
Подробнее 11-апр-2018Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 213-я Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П....
Подробнее 18-мар-2020Собор, который не закрывался с XVI века Фото: Арсений Смаков / wikipedia.org Свято-Сергиевский собор —...
Подробнее 09-окт-2018Гюль Баба — таинственный дервиш братства Бекташи Фото: islamosfera.ru Казанский исследователь и колумнист...
Подробнее 29-сен-2018Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 132-я Фото: из архивов музея истории АО...
Подробнее 28-дек-2019В Свияжске раскопали древний город, законсервировали и сделали единственный музей археологии дерева Фото:...
Подробнее 31-авг-2018Проект «Москва глазами инженера» выяснял, что можно считать архитектурным наследием Фото: tatarstan.ru В...
Подробнее 16-окт-2020